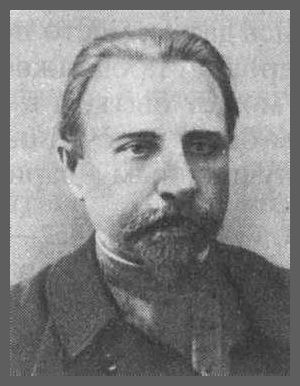Сергей Иванович Гусев-Оренбургский
Биография.
Сергей Иванович
Гусев-Оренбургский... Интересна и противоречива фигура талантливого
русского писателя. Давно хотелось, и следовало сказать о нём хотя бы
несколько слов...
С одной стороны, он - бывший священник и писатель,
которого однажды привлекли к суду за то, что в повести «Призраки» якобы
оскорбительно изобразил православную церковь и христианскую религию. С
другой – поборник «революционных» идей, которые так старались приписать
Гусеву-Оренбургскому советские критики. А между тем, Гусев-Оренбургский
не был ни оскорбителем религии, ни революционером.
Трудно
сказать, что повлияло на решение писателя в 1898 г. снять с себя сан.
Конечно, такое событие, как снятие сана, в России было чрезвычайной
редкостью, и критики-атеисты советского времени не упустили возможности
приписать Гусеву-Оренбургскому «разочарование» в вере и некий
«революционный бунт». И всё же, несмотря ни на что, Гусев-Оренбургский
был глубоко верующим человеком. Дело, скорее всего, в том, что в нём
боролись два начала – священник и литератор. А ещё вернее, он слишком
поздно осознал своё истинное призвание: сняв сан, С.И. полностью
посвятил себя литературному творчеству.
Настоящая фамилия писателя -
Гусев. Сергей Иванович родился 05.10.1867 в Оренбурге, в купеческой
семье; учился в Уфимской духовной семинарии; после окончания семинарии
пошел в народные учителя. В 1893 году С.И. стал сельским священником и в
течение 6 лет служил в одной из мордовских деревень. Писать, вероятно,
начал давно, но печататься - только в 1890 г., добавив к своей фамилии
псевдоним «Оренбургский». Первый рассказ Гусева-Оренбургского
"Самоходка" вышел в 1893, когда он был семинаристом.
Ещё в
семинарии будущий писатель познакомился с русскими классиками. Самое
большое впечатление на молодого человека произвел Глеб Успенский. Как
С.И. вспоминал потом в своей автобиографии: «Он первый пробудил во мне
желание писать».
Также большое влияние на Гусева-Оренбургского
оказал в 90-х г. Максим Горький, которому писатель посвятил второй том
своих произведений, - в этот сборник вошла лучшая из его повестей,
«Страна отцов». Советские критики утверждали, и до сих пор указано в
Большом Российском энциклопедическом словаре, что «Под влиянием
Горького, накануне 1905 года, в творчестве Гусева-Оренбургского
обозначился сдвиг в сторону революционно-демократических настроений...»
Безусловно,
влияние было. Кроме того, тревожные события тех лет действовали так или
иначе на всех. Но правда и то, что даже на самых ранних этапах
литературной деятельности Гусев-Оренбургский всегда выступал защитником
народа, крестьянства: борясь с несправедливостью, откуда бы она не
исходила, он стремился в своих произведениях как можно глубже изображать
действительность - грубость, темноту, жестокость деревни. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что он активно сотрудничал в передовых
журналах 90-х годов - «Жизнь», «Журнал для всех», а также в сборнике
товарищества «Знание».
Интересно отметить, что, отдавая дань
писательскому таланту Гусева-Оренбургского, советские критики всё же
замечают в его «демократических» повестях и «некоторые недостатки». Так,
например, «...революционеры-интеллигенты обрисованы
Гусевым-Оренбургским очень бледно. Это не живые, одетые в плоть и кровь
образы, а только схемы, носители определенных идей и тенденций. Бледно и
схематично показаны также рабочие». Кстати, критики также признают, что
«...выступления героев Гусева-Оренбургского, равно как и самого
писателя, против церкви - не являются отрицанием религии вообще; это
преимущественно борьба с официальной церковью и религией...»
В
сущности, «борьба» Гусева-Оренбургского была ни чем иным, как борьбой с
человеческим пороком, который коренится во всех нас, без исключения; и
люди носящие духовный сан подверженны искушениям более, чем кто-либо.
Именно это чувство правды и добра заставляло писателя изображать жизнь
провинциального духовенства и крестьянской бедноты такою, как есть.
Правда, его ранние рассказы ("Добрый пастырь") носили более светлый
характер, и только позднее стал он рисовать горькие стороны человеческих
немощей, где бы они не встречались ((«Отец Памфил»,"Страна отцов").
Нет
возможности в коротком очерке привести подробные примеры множества
персонажей Гусева-Оренбургского. Думается, что достаточно указать лишь
на факт, что, как и в жизни, в его положительных героях присутствуют
неизбежные тени... точно так же в отрицательных - есть немало хорошего. А
цензура - гражданская ли, духовная – она во все времена была, и есть,
цензура. Поэтому отстаивая справедливость, Гусев-Оренбургский не раз
подвергался гонениям. И всё же, замечания советских критиков, что,
дескать, светлые личности среди духовенства на Руси - были «случайным,
редким явлением», не только напрасны, это просто неправда. Это настолько
нелепо, что даже оспаривать не имеет никакого смысла...
Гораздо
лучше напомнить, что Гусев-Оренбургский горько разочаровал почтенных
критиков тем, что «революционные мотивы и образы» в его произведениях
стали «постепенно терять свою силу и организующую роль». Более того, в
период «Великой Октябрьской» социалистической революции, а также в годы
Гражданской войны «со всей очевидностью раскрылась мелкобуржуазная
природа позиции Гусева-Оренбургского»...
Короче, не приняв революции,
писатель ушёл в эмиграцию. В 1921 эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке. В
1928 опубликовал роман «Страна детей», редактировал журнал "Жизнь".
Умер в
1963 году... вдали от родины.
Т.Н.
Малеевская.